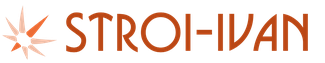Облако в штанах 2 часть. Владимир Маяковский — Облако в штанах (Поэма): Стих
Цель урока : показать логику развития идеи произведения.
Методические приемы : аналитическое чтение поэмы.
Ход урока.
I. Проверка домашнего задания.
Чтение и обсуждение выбранных стихотворений.
II. Слово учителя
С самых ранних стихов Маяковскому была присуща чрезмерная лирическая распахнутость, безоглядная внутренняя раскрытость. Между конкретным лирическим «я» поэта и его лирическим героем дистанции практически нет. Лирические переживания столь напряженны, что, о чем бы он ни писал, острая лирическая, индивидуальная интонация пронизывает ткань его поэзии. Такова и первая его поэма с загадочным и эпатирующим названием «Облако в штанах» (1915). Сам Маяковский определил ее как «тетраптих», смысл четырех частей которой - «долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию».
III. Аналитическая беседа
Какие ассоциации, реминисценции вызывает это определение Маяковского?
(Категоричность суждений, заявлений лирического героя напоминает о бескомпромиссности, нигилизме, бунтарстве Базарова . Вспомним предмет споров Базарова и Кирсанова - он практически совпадает с тем, о чем пишет Маяковский.)
Какой образ объединяет части поэмы?
(Части поэмы связывает ведущий образ - лирическое «Я».)
Какими приемами он изображается?
(Основной прием изображения - антитеза . Противопоставление всему обществу в прологе поэмы вырастает до противопоставления всему мирозданию в конце. Это не просто спор, это дерзкий вызов, столь характерный для творчества раннего Маяковского (вспомним стихотворения «Нате!» , «Вам!»):
Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут,
досыта издеваюсь, нахальный и едкий. ("Облако в штанах", вступление)
Противостоять всему и вся и не сломаться под силу только небывало мощной личности. Отсюда следующий прием - гиперболизация образа: «Мир огромив мощью голоса, / иду - красивый, / двадцатидвухлетний»; гипербола может сочетаться со сравнением: «как небо, меняя тона». Диапазон этой личности - полюса: «бешеный» - «безукоризненно нежный, / не мужчина, а - облако в штанах!» Так проявляется смысл названия поэмы. Это самоирония, но основное чувство, захватившее героя, обозначено: «нежность». Как же она сочетается с бунтарской стихией поэмы?
Как изображается любовь в поэме?
Первая часть - предельно откровенный рассказ о любви. Реальность происходящего сознательно подчеркивается: «Это было, / было в Одессе». Любовь не преображает, а искажает «глыбу»-человека: «Меня сейчас узнать не могли бы: / жилистая громадина / стонет, / корчится». Оказывается, что этой «глыбе» «многое хочется». «Многое» вообще-то очень простое и человеческое:
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце - холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
Любовь у этой «громады» должна быть «маленьким, смирным любеночком». Почему? Громада исключительна, второй нет. Ласковый неологизм «любеночек», напоминающий «ребеночка», подчеркивает силу чувства, трогательной нежности. Герой на пределе чувства, каждая минута, час ожидания любимой - мука. И как итог страданий - казнь: «Упал двенадцатый час, / как с плахи голова казненного». Нервы обнажены, издерганы. Метафора реализуется «Нервы / большие, / маленькие, / многие! - / скачут бешеные, / и уже / у нервов подкашиваются ноги!»
Является, наконец, героиня. Разговор идет не о любви-нелюбви. Действие на лирического героя слов его возлюбленной передается скрежещущей звукописью:
Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете -
Я выхожу замуж».
С помощью каких приемов передано психологическое состояние героя?
Психологическое состояние героя передано очень сильно - через внешнее его спокойствие: «Видите - спокоен как! / Как пульс покойника»; «а самое страшное / видели - лицо мое, / когда / я абсолютно спокоен?» Внутренние страдания, разорванность души подчеркнуты переносом (анжанбеман): надо сдержаться, а потому говорить четко, медленно, размеренно.
«Пожар сердца» сжигает героя: «Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу! / Рухнули. / Не выскочишь из сердца!» Здесь вывернут наизнанку фразеологизм «сердце выскакивает из груди». Катастрофа постигшая героя, сопоставима с мировыми катастрофами: «Крик последний, - / ты хоть / о том, что горю, в столетия выстони!»
Какова логика развития поэмы во второй части?
Трагедия любви переживается поэтом. Логично, что вторая часть - об отношениях героя и искусства. Начинается часть с решительного заявления героя: «Я над всем, что сделано, / ставлю «nihil» («ничто», лат.). Герой отрицает «вымученное», вялое искусство, которое делается так: «прежде чем начнет петься, / долго ходят, разомлев от брожения, / и тихо барахтается в тине сердца / глупая вобла воображения». «Выкипячивать» «из любвей и соловьев какое-то варево» - не для него. Эти «любви»-«соловьи» - не для улицы, которая «корчится безъязыкая». Буржуазность, обывательщина заполонили город, задавили своими тушами живые слова. Герой кричит, призывает взбунтоваться против «присосавшихся бесплатным приложением / к каждой двуспальной кровати»: «Мы сами творцы в горящем гимне!» Это гимн живой жизни, которая ставится выше «Я»:
Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!
(Обратим внимание на неологизмы
Маяковского).
Свою роль «крикогубый Заратустра» (ницшеанские мотивы вообще сильны у раннего Маяковского), говоря о грядущем «в терновом венке революций» «шестнадцатом годе», определяет четко:
А я у вас - его предтеча!
я - где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.
Как вы понимаете эти слова?
Здесь герой уже отождествляет себя с самим Богом. Он готов на самопожертвование: «Душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! - / и окровавленную дам, как знамя». Вот цель и назначение поэзии и поэта, достойная «громады» личности героя.
Как эта цель показана в третьей части?
Мысль поэмы логически переходит к тем, кого вести под этим «знаменем», сделанным из «растоптанной души» героя:
От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.
Кругом пошлость, бездарность, уродство. Герой уверен: «Сегодня / надо / кастетом / кроиться миру в черепе!» А где же признанные человечеством «гении»? Им уготована такая участь: «на цепочке Наполеона поведу, как мопса». Этот пошлый мир надо разрушить во что бы то ни стало:
Выньте, гулящие, руки из брюк -
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук -
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голодненькие,
Потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Сам же лирический герой берет на себя роль «тринадцатого апостола». С Богом он уже запросто: «может быть, Иисус Христос нюхает / моей души незабудки». -
Как лирическая любовная тема проявляется в четвертой части? Как она изменяется?
От глобальных замыслов по переделке мира герой возвращается к мыслям о своей любимой. Впрочем, он от этих мыслей и не уходил, они лишь сублимировались в мощнейшей творческой попытке бросить вызов всему мирозданию. Имя «Мария» выкрикивается многократно. Это мольба о любви. И герой становится покорным, чуть ли не униженным, «просто человеком»: «а я весь из мяса, / человек весь - тело твое просто прошу, / как просят христиане - «хлеб наш насущный /даждь нам днесь». Любимая заменяет все, она необходима, как «хлеб насущный». Поэт говорит о своем «в муках рожденном слове»: оно «величием равное Богу». В этом, конечно, кощунство, постепенно перерастающее в бунт против Бога.
Отказ любимой провоцирует этот бунт страдающего и отчаявшегося героя. Сначала он просто фамильярен:
Послушайте, господин бог!
Как вам не скучно
В облачный кисель
Ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Затем фамильярность переходит всякие границы: герой с Богом уже на «ты», откровенно хамит ему:
Мотаешь головой, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь -
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Главное обвинение Богу не в неправильном устройстве мира, не в социальной несправедливости. Несовершенство мира в том, «отчего ты не выдумал, / чтоб было без мук / целовать, целовать, целовать?!» Отчаяние героя доходит до исступления, до бешенства, почти до сумасшествия, он выкрикивает страшные богохульства, стихия захлестывает его:
Я думал - ты всесильный божище,
А ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
Из-за голенища
Достаю сапожный ножик.
Крылатые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
Отсюда до Аляски!
Пустите!
Меня не остановите.
И вдруг смиряет себя: «Эй, вы! / Небо! / Снимите шляпу! / Я иду!» (он уже снова с небом на «вы», хотя гордость еще не задушена). Ничто не внемлет герою: «Глухо. / Вселенная спит, / положив на лапу / с клещами звезд огромное ухо».
IV. Заключительное слово учителя
Яростно конфликтуя с миром, герой обнаруживает свою бунтарскую сущность. Противоречивость героя, соединение в нем предельной «расхристанности» и предельной нежности, обостряют конфликт. Противоречивость, раздирающая героя, обрекает его на трагическое одиночество.
V. Практикум по поэме В.В.Маяковского «Облако в штанах»
1. Поэт Николай Асеев писал: «Облако в штанах» - издевательское название, заменившее первоначальное, запрещенное цензурой, и было первым опытом большой темы, построенной на противопоставлении существующих распорядков, институтов, учреждений тому, что идет им на смену, что чувствуется в воздухе, осязается стихе - грядущей революции».
Почему, по мнению Асеева, название поэмы «Облако в штанах» - «издевательское»?
Что имел в виду Асеев под «опытом большой темы»?
В чем заключается «противопоставление существующих распорядков»? Приведите примеры из текста.
2. В.Маяковский рассказывал в марте 1930 г.: «Оно («Облако в штанах») начато письмом в 1913/14 годах и сначала называлось «Тринадцатый апостол». Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: «Что вы, на каторгу захотели?» Я сказал, что ни в коем случае, что это никак меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. Это вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили - как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: «Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите - буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах».
Почему первоначальное название поэмы «Тринадцатый апостол» вызвало у цензуры мысль о каторге?
В чем заключается соединение «лирики и большой грубости» в поэме «Облако в штанах»? Приведите примеры из текста.
В чем смысл нового названия поэмы? Как его объясняет сам поэт? Отражает ли название «Облако в штанах» характер лирического героя произведения?
3. «Стихотворения и поэмы, созданные в 1915 гг. («Облаков штанах», «Флейта и позвоночник»), говорили о том, что в литературу пришел крупный поэт-гуманист и проникновенный лирик. В поэме о любви, ограбленной современной жизнью («Облако в штанах»), громко звучит голос самого автора, факты его биографии обретают здесь высокое поэтическое обобщение...» (К. Д. Муратова).
Назовите «факты… биографии» В. Маяковского, которые можно узнать в его поэме?
По словам Муратовой, в поэме «громко звучит голос самого автора», так ли это? Обоснуйте свой ответ, приведите примеры из текста.
4. К.Д.Муратова пишет об «Облаке в штанах» : «Большую оригинальность поэме придает ее метафорическая насыщенность, в ней чуть ли не каждая строка метафорична. Примером материализованной метафоры может служить строка «пожар сердца» поэта, который тушат пожарные, или «больные нервы», что «мечутся отчаянной чечеткой», заставляя рухнуть штукатурку в нижнем этаже».
Что дает основание говорить о том, что в поэме «чуть ли не каждая строка метафорична»? Согласны ли вы с высказыванием критика?
Что, по вашему мнению, подразумевается под определением «материализованная метафора»? Приведите примеры такой метафоры в тексте поэмы.
5. «В «Облаке...» видна одна из главных особенностей мышления Маяковского: способность к мощным ассоциативным стяжениям весьма далеки друг от друга тем, образов, сюжетов. Что общего между Северяниным , Бисмарком и «тушами лабазников»? И какое отношение они имеют к страдающему отвергнутому любовнику - «тринадцатому апостолу», то предлагающему Богу завести в раю «девочек», то грозящему ему ножом?» (С. Бовин).
В чем, по мнению Бовина, заключается главная особенность «мышления Маяковского»? Найдите примеры такого мышления в тексте.
Исследователь ставит перед читателем определенные вопросы, касающиеся творчества Маяковского. Попытайтесь сами дать на них ответы. Нет ли ответов на них в самой поэме?
6. А.А.Михайлов пишет об «Облаке в штанах»: «Богохульство, агрессивная лексика, уличная грубость и нарочитый антиэстетизм выявляют анархические тенденции, бунтарскую стихию поэмы. И хотя Маяковский, богохульствуя, возвышает человека, но стихия захлестывает его: «Выньте, гулящие, руки из брюк, - берите камень, нож или бомбу...»
Что говорит, по мнению критика, об «анархических тенденциях» и «бунтарской стихии поэмы»? Согласны ли вы с этим?
Как, на ваш взгляд, «богохульствуя», Маяковский «возвышает человека»? Приведите примеры из текста.
Замысел поэмы «Облако в штанах» (первоначально название «Тринадцатый апостол») возник у Маяковского в 1914 году. Поэт влюбился в некую Марию Александровну, семнадцатилетнюю красавицу, пленившую его не только внеш-ностью, но и своей интеллектуальной устремленностью ко всему новому, рево-люционному. Но любовь оказалась несчастной. Маяковский воплотил горечь сво-их переживаний в стихах. Полностью поэма была закончена летом 1915 года. По-эт был не только автором, но и ее лирическим героем. Произведение состояло из вступления и четырех частей. Каждая из них имела определенную, так сказать, частную идею.
«Долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» - «четыре крика четырех частей», - так очень верно и точно опре-делена сущность этих идей самим автором в предисловии ко второму изданию поэмы.
В начале второй главы автор определяет свои позиции:
Славьте меня!
В следующих строках мы улавливаем определенный «нигилизм»:
Я над всем, что сделано,
Ставлю: «nihil» (ничто).
Все отрицается и разрушается, все перестраивается и переделывается на но-вый лад. Отрицание продолжается:
Никогда ничего не хочу читать.
И тут же – познание жизни:
А оказывается –
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения…
Далее автор в гуще толпы:
Улица муку молча перла…
И вновь – возвращение к личной теме, поэт ставит свои жизненные принци-пы.
Во второй главе протест Маяковский выражает открыто, громко и смело. С исключительной ясностью и вдохновением выражена в ней целеустремленность героя, когда он, обращаясь к «уличным тыщам», идущим за поэтами «размокши-ми в плаче и всхлипе», говорит:
Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!
…
Нам, здоровенным,
с шагом саженным,
надо не слушать, а рвать их –
их,
присосавшимся бесплатным приложеньем
к каждой двуспальной кровати!
С торжественной проповедью обращался поэт к людям труда, говорил об их величии и могуществе:
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъявили проказу, -
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу.
…
я знаю,
солнце померкло б, увидев
наших душ золотистые россыпи!
Внимательно прислушиваясь к биению пульса жизни, зная, что выраженные им чувства не сегодня-завтра станут самосознанием миллионов, поэт устами сво-его лирического героя провозгласил:
я,
осмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
…
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
А я у вас – его предтеча…
Маяковский осознает себя певцом человечества, угнетенного существую-щим строем, которое поднимается на борьбу. Он называет себя «крикогубым За-ратустрой». Поэт говорит, как пророк, от имени людей, задавленных городом, ка-торгой тупого, бессмысленного труда. Он высмеивает сладеньких, чирикающих поэтов, которые «выкипячивают», «пиликая», рифмы, в то время как корчащейся улице «нечем кричать и разговаривать». Остриями раскаленных строк, как шты-ками, штурмует он весь старый строй жизни.
Громко и проникновенно говорит Маяковский от имени тех, кто держит в своей пятерне «миров природные ремни». Огромная любовь к человеку – в каж-дой строке второй главы. Ни одного спокойно произнесенного, ни одной равно-душной фразы. Стих Маяковского оказался достаточно могучим, чтобы передать перемещение миров, уловить тончайшие движения сердца и глухую тишину Все-ленной.
Вторая глава полная мысли, огня, презрения, боли и предвидения будущего.
Это предвидение поэта на год укорачивает срок ожидания. Ему кажется, что уже в 1916 году грянет революция.
Что касается художественных особенностей второй главы поэмы «Облако в штанах», то они представлены здесь очень широко. Необычностью поэзии Мая-ковского является то, что она очень активна, не воспринимать ее никак просто не-возможно. Можно сказать, что его стихи – стихи митингов, лозунгов. И во второй главе мы находим тому примеры: «Славьте меня!», «Господа! Остановитесь! Вы же не нищие, вы не смеете просить подачки!».
Новаторство Маяковского разнопланово. Он совершенно меняет устояв-шиеся стереотипы в работе над словом, речевыми оборотами. Например, автор берет какое-нибудь слово и «освежает» его первичное значение, создавая на его основе яркую, развернутую метафору. Результатом этого стали такие образы, как «костлявые пролетки», «пухлые такси».
Мир метафор просто поражает своей фантазией и многообразием: «душ россыпи», «глаз обрывается», «душу вытащу, растопчу», «выжег души…». Срав-нения поражают своей образностью: «лицо, как застиранная простыня», «с губа-ми, обвисшими, как люстра», а себя поэт сравнивает со «скабрезным анекдотом».
Вводя неологизмы, Маяковский добивается запоминающейся образной ха-рактеристики явлений и событий: «разморозлив», «выкипячивают», «пешехо-дист».
С лексикой поэт обращается необыкновенно творчески: он «просеивает», «перемешивает» слова, совмещая их в самых контрастных сочетаниях. В поэме мы найдем сочетания «высокого» и «низкого» стилей. «в хорах архангелова хора-ла», «идемте жрать», «Фауст», «гвоздь», «венецианское лазорье», «голодные ор-ды». А подчас встречаются и нарочито грубые, «сниженные» образы: «выхаркну-ла», «сволочь»…
Во второй главе поэмы мы найдем фразы-образы, когда буквально за одной строкой – целый мир, воспроизведенный с удивительной точностью и многопла-новостью. К примеру, это образ города:
топорщась, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi и костлявые пролетки..
Ритмический рисунок второй главы своеобразен, очень динамичен. Маяков-ский преобразует и свободно сочетает традиционные стихотворные размеры (ямб, хорей, анапест и т.д.) с характерным для народно-поэтического творчества тони-ческим стихом, создавая гибкую подвижную структуру стиха.
И когда –
все-таки!
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть…
Ритмическое разнообразие и вариантность стиха не самоцель, а средство выражения многогранного содержания поэмы.
К особенностям ритмической структуры стиха Маяковского стоит отнести сложное движение ритма, разбивку стихотворной строки, его знаменитую «лесен-ку»:
Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеня,
сегодняшнего дня крикогубый Зарастустра.
Известно одно воспоминание товарища Маяковского В. Каменского. Он пи-сал: «Успех поэмы «Облако в штанах» был столь громаден, что с этой минуты он сразу поднялся на высоту гениального мастерства. Даже враги смотрели на эту высоту с трепетом и изумлением». Я считаю, что данное высказывание полно-стью отражает суть этого произведения, ведь Маяковский, проникнутый предчув-ствием грядущей революции, говорил от имени порабощенного человечества.
Вступление
Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду - красивый,
двадцатидвухлетний.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходите учиться -
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.
И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
Хотите -
буду от мяса бешеный
- и, как небо, меняя тона -
хотите -
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а - облако в штанах!
Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.
Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре»,- сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце - холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая -
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.
Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.
Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала,-
вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.
В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.
Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот,-
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.
Рухнула штукатурка в нижнем этаже.
Нервы -
большие,
маленькие,
многие!-
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!
А ночь по комнате тинится и тинится,-
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.
Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.
Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете -
я выхожу замуж».
Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите - спокоен как!
Как пульс
покойника.
Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть»,-
а я одно видел:
вы - Джоконда,
которую надо украсть!
И украли.
Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!
Дразните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!
Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен,-
а самое страшное
видели -
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?
И чувствую -
«я»
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,-
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Люди нюхают -
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!
На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.
Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!
Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний,-
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!
Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil».
Я раньше думал -
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак -
пожалуйста!
А оказывается -
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая -
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.
Улица муку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi и костлявые пролетки
грудь испешеходили.
Чахотки площе.
Город дорогу мраком запер.
И когда -
все-таки!-
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хорах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!
А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»
Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея -
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется, «борщ».
Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»
А за поэтами -
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.
Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!
Нам, здоровенным,
с шаго саженьим,
надо не слушать, а рвать их -
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!
Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне -
шуме фабрики и лаборатории.
Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю -
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!
Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!
Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеня,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу,-
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!
Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю -
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!
Жилы и мускулы - молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы -
каждый -
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!
Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»
Но мне -
люди,
и те, что обидели -
вы мне всего дороже и ближе.
Видели,
как собака бьющую руку лижет?!
Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
А я у вас - его предтеча;
я - где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!
И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю -
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая!-
и окровавленную дам, как знамя.
Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!
Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.
И -
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк -
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке
взял и сказал:
«Хорошо!»
Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»
И эту секунду,
бенгальскую,
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на…
А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!
Вы,
обеспокоенные мыслью одной -
«изящно пляшу ли»,-
смотрите, как развлекаюсь
я -
площадной
сутенер и карточный шулер.
От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.
Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.
Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут -
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»
Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.
Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкая,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.
И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе -
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.
Вы думаете -
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!
Выньте, гулящие, руки из брюк -
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук -
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника -
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.
Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.
На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.
Уже сумашествие.
Ничего не будет.
Ночь придет,
перекусит
и съест.
Видите -
небо опять иудит
пригоршнью обгрызанных предательством звезд?
Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!
Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу - глаза круглы,-
глазами в сердце въелась богоматерь.
Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь - опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?
Может быть, нарочно я
в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики - отцы,
девочки - забеременели.
И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они -
и будут детей крестить
именами моих стихов.
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает -
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.
Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».
Мария,
видишь -
я уже начал сутулиться.
В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске,-
перехихикиваться,
что у меня в зубах
- опять!-
черствая булка вчерашней ласки.
Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах -
да!-
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз -
да!-
из опущенных глаз водосточных труб.
Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет;
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.
Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.
Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!
Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.
Видишь - натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!
Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят,-
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц,-
«любящие Маяковского!»-
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.
Мария, ближе!
В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.
Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я -
весь из мяса,
человек весь -
тело твое просто прошу,
как просят христиане -
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».
Мария - дай!
Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.
Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.
Мария -
не хочешь?
Не хочешь!
Значит - опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.
Кровью сердце дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю -
голову Крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца -
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.
Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:
- Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте - знаете -
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи,-
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь -
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Я тоже ангел, я был им -
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из сервской муки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова,-
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Я думал - ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!
Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите -
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.
Анализ поэмы «Облако в штанах» Маяковского
«Облако в штанах» — одно из наиболее известных и популярных произведений Маяковского, дающее представление об отличительных особенностях его таланта и мировоззрения. Поэт работал над ним около полутора лет и впервые представил публике в 1915 г. При авторском чтении присутствовала Л. Брик, которая произвела на Маяковского неизгладимое впечатление. Он посвятил ей свою поэму. Это стало началом долгого мучительного романа.
Первоначально стихотворение называлось «Тринадцать апостолов» и была значительно больше по объему. Из-за слишком острых высказываний в адрес церкви произведение было запрещено цензурой и подверглось значительной авторской переработке.
Стих относится к любовной лирике, так как в основе сюжета лежит ожидание лирического героя своей возлюбленной. Это мучительное ожидание переходит в ненависть, когда герой узнает, что любимая собирается выйти замуж. Оставшаяся часть поэмы – философское размышление автора, описание переполняющих его чувств.
«Облако в штанах» в максимальной степени дает представление о тех выразительных приемах, которые использовал Маяковский: нестандартный размер, обильное употребление неологизмов и искаженных слов, неточная и рваная рифма, оригинальные метафоры и сравнения.
Долгое ожидание Марии превращается для поэта в настоящую пытку. За лаконичным описанием течения времени («Восемь. Девять. Десять.») скрывается с трудом подавляемый гнев и нетерпение. Известие о предстоящем браке Марии лирический герой встречает внешне спокойно, но из его души «вырывается упрямо» гигантское чувство злобы и ненависти к окружающему миру.
Это чувство Маяковский выплескивает против пошлости и мерзости буржуазного общества. Если раньше творческий процесс представлялся ему относительно простым делом, то теперь, глядя на отвратительную действительность, он не может выразить свои ощущения. Все яркие слова погибли, остались лишь «сволочь и… кажется, «борщ»». Это утверждение поэта очень существенно. Он никогда не испытывал недостатка в словах и в любое время создавал новые.
Злость приводит поэта к мысли о беспощадной расправе с несовершенным обществом. Он призывает взяться за оружие и серые будничные дни «окрасить кровью в праздники».
Маяковский на протяжении всей поэмы выдвигает на первый план значимость своего «Я». Это не только проявление эгоизма, но и утверждение приоритета отдельной личности над интересами и мнением инертной толпы. Апофеозом этой мысли является признание автором себя «тринадцатым апостолом» и приближение к Иисусу Христу.
В финале поэмы автор вновь обращается к Марии с униженной грубой мольбой. Он откровенно просит женщину отдать свое тело. Отказ приводит к новой вспышке ярости. Неудовлетворенный поэт с нетерпением ждет своей смерти в предвкушении разговора с Богом. Он обвиняет создателя в бессилии и грозится уничтожить весь рай. Эта угроза в максимальной степени передает настроение поэта и подчеркивает его непримиримый характер.
Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю "nihil".
Я раньше думал -
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак -
пожалуйста!
А оказывается -
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая -
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.
Улица муку молча перла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi и костлявые пролетки
грудь испешеходили.
Чахотки площе.
Город дорогу мраком запер.
И когда -
все-таки!-
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хорах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!
А улица присела и заорала:
"Идемте жрать!"
Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея -
"сволочь"
и еще какое-то,
кажется, "борщ".
Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
"Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?"
А за поэтами -
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.
Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!
Нам, здоровенным,
с шаго саженьим,
надо не слушать, а рвать их -
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!
Их ли смиренно просить:
"Помоги мне!"
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне -
шуме фабрики и лаборатории.
Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю -
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!
Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!
Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеня,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу,-
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!
Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю -
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!
Жилы и мускулы - молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы -
каждый -
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!
Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
"Распни,
распни его!"
Но мне -
люди,
и те, что обидели -
вы мне всего дороже и ближе.
Видели,
как собака бьющую руку лижет?!
Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
А я у вас - его предтеча;
я - где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!
И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю -
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая!-
и окровавленную дам, как знамя.
Поэма В. Маяковского «Облако в штанах», написанная в 1914-1915 годах, по содержанию является произведением, в «эзоповой» манере пропогандирующим революционную борьбу с основами буржуазного общества – его моралью, искусством, строем и идеологией. Этому посвящены четыре части тетраптиха.
Вторая часть выступает под лозунгом «Долой ваше искусство». В ней уничижающей критике подвергается буржуазное искусство, сглаживающее остроту и силу страданий человека, которые с неимоверной силой были описаны в первой части. Вторая часть направлена против тех поэтов, которые «выкипячивают, рифмами пиликая, из любвей и соловьев какое-то варево». И хотя строки эти имеют в виду конкретный адресат – Игоря Северянина, однако в целом они содержат куда более обобщенный смысл и направлены против того искусства, которое лакирует жизнь, сглаживая ее вопиющие противоречия. Над всем этим поэт ставит «nihile», потому что в его представлении книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак…
Но, на самом деле, он видит лишь, как у поэтов и писателей «тихо барахтается в тине сердца глупая вобла воображения». Поэт, протестующий против буржуазной морали, протестует против искусства, которое проповедует эту мораль.
Вторая часть поэмы очень важна для понимания эстетических позиций молодого Маяковского. Эстетическое кредо поэт излагает в острой полемике с буржуазным искусством. Он провозглашает борьбу за демократизацию поэзии. «Пиликающим рифмам» он противопоставляет образ «улицы», которая «корчится безъязыкая – ей нечем кричать и разговаривать». Свою задачу Маяковский видит в том, чтобы дать «безъязыкой улице» поэтическое слово, выразить ее страдания и думы. И пусть словарь этой поэзии не будет «изысканным», пусть он включает в себя нарочитую грубость и вульгаризмы:
… во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея –
«сволочь»
и еще какое-то.
Кажется – «борщ».
А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»
Все это и есть словарь поэзии «уличных тыщ», которых поэт призывает не сметь «просить подачки» у поэтов, «размокших в плаче и всхлипе». Он также приказывает «улице» «не слушать, а рвать их – присосавшихся бесплатным приложением к каждой двуспальной кровати!», потому что эти люди – «сами творцы в горящем гимне – шуме фабрик и лабораторий».
«Златоустнейший» поэт, «чье каждое слово душу новородит», утверждает как самую высокую ценность мира «мельчайшую пылинку живого». Поэтому он проповедует не фантазию, не уход от жизни, а жизнь, ее земные ценности. Истинный поэт, по мнению Маяковского, не тот, кто сотворит легенду о «Фаусте, феерией ракет скользящего с Мефистофелем в небесном паркете», а том, кто в «каторжнях города- лепрозория» (низшая степень падения человека!) увидит «душ золотые россыпи». Так, поэзия, уходящая своими корнями в земную, грубую жизнь, в противовес искусству «Гомеров и Овидиев», является, с точки зрения Маяковского, демократической по самой своей сути.
Именно в «Облаке в штанах» тема искусства впервые связывается с темой революции. Миссия поэта, в трактовке Маяковского, оказывается миссией пророка. Миссия эта драматична, так как лирический герой, предсказавший, что «в терновом венце революций грядет шестнадцатый год» (Маяковский, правда, ошибся в своем предсказании на один год), все же осмеян у «сегодняшнего времени». Но предвкушение радости завтрашнего дня, ключи от которого в руках этих «людей… от копоти в оспе», заставляет поэта снова «взводить» себя «на Голгофы аудиторий». И даже приход революции, венчающий проповедь лирического героя, не снимет этой драматической печати с лица поэта:
И когда
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю –
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! –
и окровавленную дам, как знамя…
Таково насыщенное идейное содержание второй части, переданное в неповторимом, предельно выразительном стиле Маяковского. Этот стиль создан из акцентного стиха, умения чувствовать слово, к какому бы стилю речи оно не относилось, и смело с ним экспериментировать. Поэт пересыпает речь сниженной лексикой, но в его поэзии это звучит актуально, а не шокирующе, потому что он – поэт народных масс. Маяковский достигает предельной выразительности стиха, одушевляя все сущее в окружающей его действительности: улицу, которая «муку молча перла», слова, которые «живут, жирея». Именно поэтому его искусство, по моему мнению, никогда не осядет мертвым грузом на дно человеческой памяти.